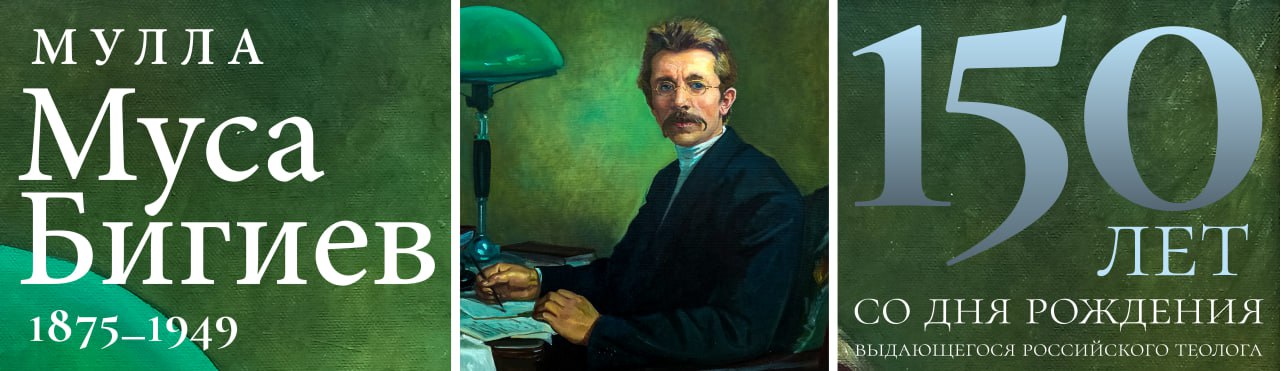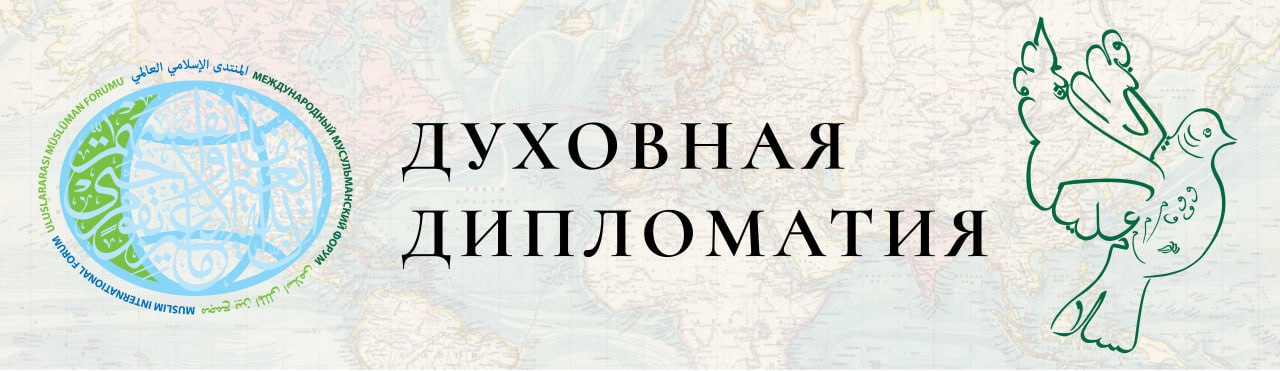О первых опытах мусульманско-христианского диалога
Традиции диалогов между представителями Ислама и Христианства существуют давно. Очень доброжелательную статью об этом написал архиепископ Тиранский и всея Албании Анастасий (Яннулатос) «Диалог с Исламом с православной точки зрения», где он говорит: «Православная Церковь Востока встречалась с Исламом уже с первых десятилетий его появления… не только в форме полемического столкновения и противостояния, но и в форме продолжительного молчаливого сосуществования… и часто находила выражение в духовной сфере в виде разнообразных богословских диалогов».
 Далее архиепископ излагает три фазы этого диалога в их эволюции: «В первой фазе, которая охватывает период с середины VIII века до IX века н.э., их позиция была скорее иронической и пренебрежительной. Святой Иоанн Дамаскин (ум. ок. 784), будучи первым христианином, занимавшимся Исламом, недооценивал эту новую религию, рассматривая ее как нечто несерьезное. …Дамаскин перевел некоторые положения исламского учения, которые охарактеризовал как «смехотворные». Надо сказать, что позицию Ислама по ключевым вопросам Дамаскин исказил до ее прямой противоположности.
Далее архиепископ излагает три фазы этого диалога в их эволюции: «В первой фазе, которая охватывает период с середины VIII века до IX века н.э., их позиция была скорее иронической и пренебрежительной. Святой Иоанн Дамаскин (ум. ок. 784), будучи первым христианином, занимавшимся Исламом, недооценивал эту новую религию, рассматривая ее как нечто несерьезное. …Дамаскин перевел некоторые положения исламского учения, которые охарактеризовал как «смехотворные». Надо сказать, что позицию Ислама по ключевым вопросам Дамаскин исказил до ее прямой противоположности. Не следует также забывать, что в те времена в Восточно-Римской империи (Византии) чин обращения в Православие из Ислама включал произнесение принимаемым в церковь человеком анафемы не только Пророку Мухаммаду, но и… «Богу Мухаммада»!
Архиепископ Анастасий далее пишет: «Во второй фазе (середина IX – середина XIV в.) центр антиисламской литературы переносится в Константинополь. Поразительные успехи Ислама… начали становиться кошмаром византийцев… В эту эпоху публикуется много сочинений, например, сочинение Никиты Византийского «Опровержение Библии, искаженной арабом Магометом», где автор пытался доказать, что Ислам является «бессвязной религией».
Третья фаза византийского противостояния Исламу (сер. XIV – сер. XV в.) отличается тем, что становится более умеренной и объективной. В диспутах и диалогах главные роли играют такие выдающиеся византийские личности, как св. Григорий Палама и императоры Мануил II Палеолог и Иоанн VI Палеолог. Этих византийцев можно считать пионерами трезвого христианско-исламского диалога».
Вот как православная сторона в лице архиепископа Албании рассматривает основные теоретические положения исламско-христианского диалога:
«Сначала византийцы рассматривали Ислам как разновидность и возрождение арианства. Мусульманская критика касалась главным образом божественности Иисуса Христа и догмата «святой Троицы»...
Христианская критика имела основной целью личность основателя Ислама для того, чтобы оспорить его чин как пророка. Главные аргументы сводились к тому, что Мухаммед не был предвозвещен пророками; что он не имел каких-либо свидетельств своих откровений; что он вообще не совершал чудес; что он не предугадывал будущее; и вообще, мораль его не находилась в соответствующих параметрах. Большинство византийцев верили, что Мухаммед служит делу антихриста, что он был предвестником последних времен. Позднее эти несерьезные определения были отброшены — по крайней мере, в официальных текстах…
Наряду с этим, христианские авторы… яростно боролись против мусульманской точки зрения, что Коран является непосредственным словом Бога… В частности, острой критике подвергалось семейное право, взгляды мусульман… в связи с материалистическими представлениями о загробной жизни…
Независимо от того, были ли аргументы, которыми они пользовались, всегда убедительны или нет, эти византийские сочинения показывают, что даже для этих двух религий существует общий смысловой базис, который и делает возможным диалог. Подобного общего языка для диалога не существует у христианства и других религий, например, индуистских».
Для современных христианских миссионеров было бы полезным обратиться к лучшим образцам прошлого. Предоставим слово главе Албанской православной церкви: «Византийцев можно считать пионерами и предшественниками христианско-исламского диалога, который в наши дни приобретает всемирный размах…
Атмосфера исламско-христианского диалога в текстах Григория Паламы (ум. 1359), архиепископа Фессалоник, дышит особенным величием и деликатностью…
На протяжении диалога Палама стремится не задеть религиозного чувства собеседников. При том, что нет взаимопонимания, господствует атмосфера взаимного уважения. «И тогда поднялись турецкие вельможи, попрощались, полные уважения к фессалоникийскому архиепископу, и ушли». Как только он замечал, что его собеседники оказались в затруднительном положении, он старался разрядить накалявшуюся обстановку деликатным юмором. «После того, как я повеселил их шуткою, я опять сказал им: Если будет возможно, чтобы мы сошлись во мнениях, то у нас будет одно и то же учение». Таким образом, сохранялась симпатия при том, что переговоры прошли бесплодно: однако с мусульманской стороны была выражена надежда: «Настанет время, когда между нами будет согласие».
Другой выдающейся фигурой, описавшей в мягкой форме актуальные проблемы христианско-исламского диалога, был Византийский император Мануил II Палеолог (ум. 1425). В 1390 году Мануил находился при турецком дворе, где имел возможность побеседовать с мусульманскими специалистами на богословские темы… Мануил избегает любых презрительных или уничижительных выражений, свойственных древней византийской антиисламской литературе. Создается атмосфера настоящего объективного диалога. Первый начинается так:
«После ужина мы сели возле огня, и то же самое сделали по своему обычаю старик-мусульманин, а вместе с нами и его дети: два сына, наделенных умом и мудростью... Старик обратился ко мне: «Если не будет затруднительно, прошу, выслушай меня; мне хотелось бы побеседовать с тобой о том, что я скажу...». Все произведение показывает, что Мануил был… вежливым собеседником, всерьез заинтересованным в настоящем диалоге с мусульманами.
В Российском империи долгое время не было лиц, заинтересованных в ведении подобного диалога. Правящая элита рассматривала страну в качестве оплота монопольно господствующего Православия, и потому к Исламу относилась либо плохо, либо нейтрально. С XVIII века действовала государственная структура — «комиссия по христианизации татар» («новокрещенская комиссия» и проч. — названия менялись). В частности, членом такой комиссии был протоиерей Г. Саблуков, сделавший перевод Корана на русский язык с умышленными искажениями в пользу православной точки зрения. Даже после царского Манифеста 1905 г. о веротерпимости во время первой мировой войны раненным воинам-татарам в лазаретах вместо Корана давали «Новый Завет» на татарском языке и предлагали креститься (об этом заявляли мусульмане — депутаты Государственной Думы).
Как обстоит дело сегодня на территории России и СНГ? Увы, печально. Русская Православная Церковь с 1997 года ведет богословский диалог с комиссией из Ирана, т.е. только с шиитской частью уммы, причем другой страны. С суннитами, тем более своими соотечественниками, она подобного диалога не ведет. Представители РПЦ объяснили это тем, что с мусульманской стороны, в частности, со стороны Совета муфтиев России, в России, дескать, нет богословски авторитетных лидеров, что дипломатически, мягко говоря, некорректно. Значительное количество имамов получило высшее мусульманское образование и свободно владеет арабским языком. У нас есть уже несколько магистров крупнейшего исламского университета Аль-Азхар.
Мы же не выдвигаем для РПЦ подобных условий, чтобы, например, с их стороны участвовали только международнопризнанные богословы со свободным владением греческим языком! — Боюсь, это условие со стороны РПЦ было бы трудновыполнимо.
Потенциал добрососедских отношений между Русской Православной Церковью (или хотя бы веротерпимой ее частью) и мусульманами России далеко не исчерпан. Союзнические отношения в социальной сфере при умолчании богословских разночтений и невмешательстве в вероучение и культ друг друга, взаимный отказ от прозелитизма и одновременно терпимое отношение к свободному личному выбору каждым россиянином религии по своему усмотрению — все это было бы только на пользу России, ее целостности и устойчивости, будущему ее граждан.
И наоборот, ковбойские наскоки заокеанских миссионеров, пытающихся набросить петлю «харизматизма» на шею недавно еще верившего в коммунизм жителя России и СНГ, побуждают мусульман взять в руки первоисточники, предложить честный диалог и дать теоретический ответ покупателям и «ловцам человеческих душ».
Всевышний повелел нам:
«Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо. Скажите: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог — один, и мы покоряемся только Ему» (Коран, 29:46).
Ильдар Нуриманов
"Медина аль-Ислам" № 50 (5 - 11 января 2008)
11.01.2008