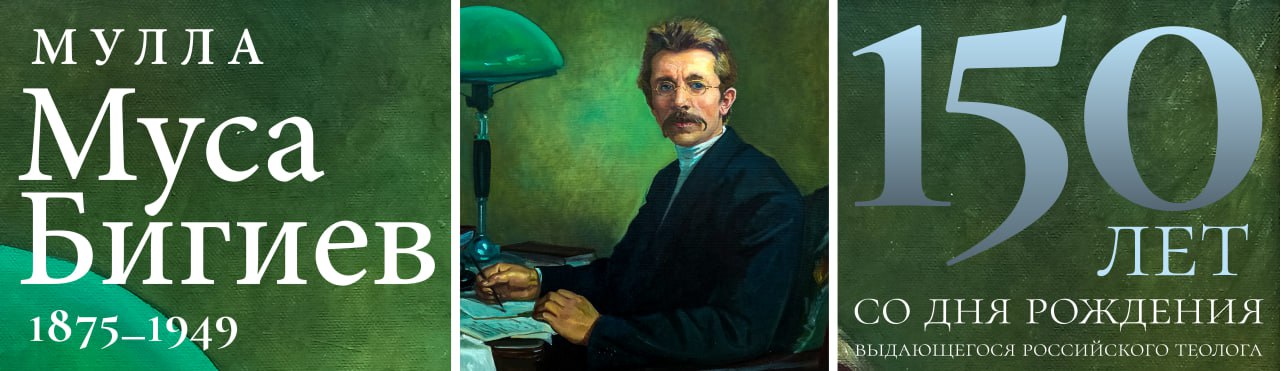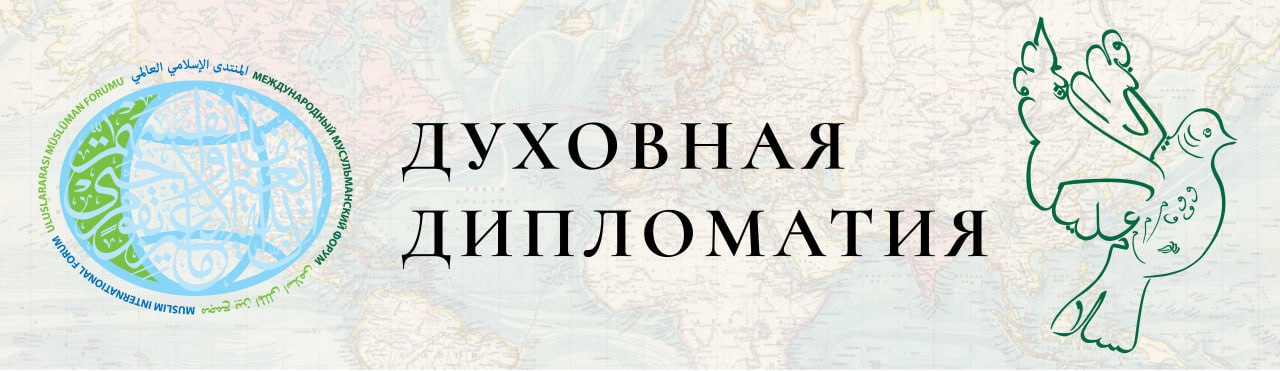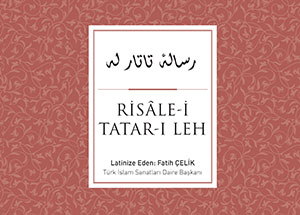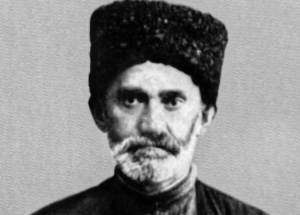Историческое наследие Фаизханова. Эволюция методов исторического исследования Х. Фаизханова
Опубликованная Р. Ф. Мардановым«Краткая история татар», представляющая своего рода конспект, была в некоторомсмысле «пробой пера». В ходе подготовки этой работы Х. Фаизханов,видимо, осознал необходимость выйти за рамки сугубо событийной стороны и глубжепогрузиться в подробности истории населения Средней Волги.

Весной 1858 г. Академия наук направила Х. Фаизханова в командировку в Московский главный архивМинистерства иностранных дел, итогом чего стало издание сборника «Материалы дляистории Крымского ханства» (1864)[i].Между тем, как правильно отмечает М. А. Усманов,«нет ничего удивительного в том, что на титульном листе [сборника] слева,т. е. напечатанного по-русски, не стоит фамилия Фаизханова,так как он официально не был сотрудником Академии», при этом вся работаосуществлялась на ее средства[ii].Вклад Х. Фаизханова, однако, отмеченв предисловии, написанном В. В. Вельяминовым-Зерновым.
Это первый известный акт сотрудничестваХ. Фаизхановаи В. В. Вельяминова-Зернова. Вклад этого ученого (заметим,первого академика-востоковеда из числа русских в Императорской академии наук)в формирование у Х. Фаизханова научногомировоззрения отмечен последующими востоковедами
Вероятно, под воздействием изысканий в московском архиве, обогатившихего познания, и в ходе дальнейшего сотрудничества сВ. В. Вельяминовым-Зерновым, с которым он взаимодействовал по частинауки, Х. Фаизханов пришел к решению занятьсясобственно историей татар и, вместе с тем, к убеждению, что это он сможетпроделать самостоятельно. Важно заметить, что работы по выявлению и изучениюволжско-булгарских эпитафий во время командировок Х. Фаизхановав Оренбургский край в 1862 и 1863 гг., имевшие чисто филологическиезадачи, производились им по собственной инициативе, можно сказать, «попутно»[vii].
По мере погружения в предмет Х. Фаизхановясно ощущал недостаточную разработанность раннего периода истории татар,связанного еще с Волжской Булгарией,о чем он говорил в своих письмах Ш. Марджани. Уже в одном из первых таких писем 1860 (или 1861 г.?) Х. Фаизханов упоминает о некоей, пока недоступной ему работеВ. В. Григорьева[viii].Очевидно, речь идет о статье «Волжские булгары», вышедшей в печати в1836 г.[ix] Другой специальнойработой, посвященной истории волжских булгар, была на тот момент публикацияИ. Н. Березина «Булгар на Волге» (1852)
В течение 1860–1863 гг.происходит заметный профессиональный рост Х. Фаизханова– от человека, еще нерешительно приступающего к написанию фактографическоготруда, сетующего на недостаток сведений, до специалиста, уверенно подвергающегокритике выводы уже признанных авторитетными специалистов и даже ставящего подсомнение их компетентность. Такой рост, дававший и возможности, и основания дляответственных суждений, был обусловлен собственной увлеченностью инеобыкновенной работоспособностью Х. Фаизханова.
О том, какого методическогоуровня Х. Фаизханов достиг к середине1863 г., можно судить по замечаниям, касающимся критического отношения ксведениям источников и предваряющим его труд «К̣азāнтāрӣхы»
Критический подход Х. Фаизхановапроявляется и в скептическом отношении к «народным» осмыслениям топонимов[xxiv]. Внимание к топонимике,кроме прочего, наглядно демонстрирует, что к историческим исследованиямХ. Фаизханов в значительной степени привлекал нетолько филологию, но и лингвистику: он объяснял, например, присутствие «финнов»(финно-угорского компонента) в составе населения Волжской Булгарии,исходя из интерпретации названий населенных пунктов и рек на территориисовременного ему расселения татар
Как писалП. И. Пашино, один из сподвижников Х. Фаизхановапо журналистской деятельности (его бывший студент, так и не ставший ученым, нопроявивший себя как публицист), «кто знает известного ученого татарина, муллу Гусейна Фейзуханова, тот найдет внем двойника Вамбери»
Х. Фаизханов вполне комплексноподходил к решению исторических задач. В результатеисследования волжско-булгарских эпитафий он пришел к выводу о происхождениибулгар вследствие смешения «финнов» и «тюрков» (в современных лингвистическихкатегориях — носителей языков финно-угорской и тюркской групп) и предложилдаже соответствующее объяснение этимологии этнонима[xxviii]. Видимо, Х. Фаизханов был первым, кто высказал мнение о происхождениислова bulğar (بلغار) от глагола bulğanmaq (بولغانماق), у самого Х. Фаизханова,в письме к Ш. Марджани от апреля1864 г. (см. выше), отражающего значение мух˘талит̣ (مختلط) – «смешанный»[xxix]. В словареЛ. З. Будагова этот глагол отмечен как форма от чагатайск.,татарск. بولْغاماق возвратного залога, в двухзначениях — «мутным делаться, возмущаться» и «б[ыть] разделену, разсеяну, устрашену; испортиться»
Конечно, в настоящее время этнология ушла далековперед по сравнению с серединой XIX в., и теперь вопросы, касающиесяэтногенеза того или иного народа, не решаются в категориях «предки», «смешение»и т. д., поскольку этногенез рассматривается как сложный процесс,учитывающий в комплексе формирование и изменение идентичности, измененияязыкового облика, обычаев, религии рассматриваемого населения и т. д.Однако, получается, что именно на эту сложность в этнической историинаселения Средней Волги булгарского периода Х. Фаизхановкак раз и указывал, решая эти вопросы также в более верном направлении, чем то,на которое вышел в результате своих изысканий ранее В. В. Григорьев[xxxiii].
Заключение
Выполняемая Х. Фаизхановым работа по переписыванию рукописей, являвшаясядля него в первую очередь источником средств к существованию,значительно обогащала его и в плане познаний. Сотрудничество и тесное общение сведущими учеными-востоковедами способствовало его развитию в областиисследовательской методики.
Примерно в 1859 г. Х. Фаизхановприступает к написанию собственной работы по истории татар, руководствуясьсоображением обобщить разрозненные сведения из разных источников, в том числена восточных языках. Постепенное погружение в проблематику приводит его квыводу о необходимости более детального исследования частных проблем. Видимо, в1860 г. за написание работы по истории Волжской Булгариии Казанского ханства берется Ш. Марджани. Х. Фаизханов выражает готовность содействовать ему по меревозможности, в том числе снабжая его необходимыми источниками и литературой.Работа Ш. Марджани была завершена, судя повсему, в марте 1862 г. Однако в том же 1862 г. Х. Фаизханов проводит изучение волжско-булгарских эпитафий, приходяк выводу о необходимости корректировки некоторых имевшихся к тому временипрочтений. В 1863 г. он осуществляет самостоятельное исследование трехтекстов, опубликовав результаты в специальной статье. Обнаружение близостиязыка изученных им эпитафий к чувашскому языку подвигает Х. Фаизханова исследовать происхождение волжских булгар всвязи с историей чувашей. Эти вопросы еще не были достаточно разработаны внауке того времени, поэтому Х. Фаизханов пришелк упрощенному, с современной точки зрения, выводу о происхождении булгар из«смешения финнов и тюрков». В настоящее время установлено, что чувашский языкпринадлежит к отдельной булгарской (или, по-другому, огурской)группе тюркских языков, являясь единственным ее живым представителем.
В любом случае, после этого открытия Х. Фаизхановприступает к написанию новых работ, одна из которых была посвящена историиВолжской Булгарии, другая – Казанского ханства.Первая из них была завершена уже к весне 1863 г., вторую планировалосьзакончить к лету 1863 г. Как доказал Р. Ф. Марданов,она, как и другой труд Х. Фаизханова,посвященный истории Касимовского ханства, былаинтегрирована Ш. Марджани в его известноесочинение «Мустафāд ал-’ах˘бāр…». Скореевсего, и не обнаруженный к настоящему времени труд Х. Фаизхановапо истории волжских булгар также был использован Ш. Марджанив неменьшей степени. В условиях отсутствия рукописиХ. Фаизханова, соответствующие заимствованныефрагменты можно было бы идентифицировать, не только выявляя идеи Х. Фаизханова, сформулированные им в переписке с Ш. Марджани, но и сопоставляя разделы «Мустафāдал-’ах˘бāр…», обновленные по сравнению с очерком Ш. Марджани 1862 г.
Журнал «Ислам в современном мире» (Том 19/№ 2/июнь/2023)
[i] См.: Мухетдинов Д. В. Хусаин Фаизхан — классик татарского просвещения, историии педагогики. С. 80–88.
[ii] Усманов М. А. Заветная мечта ХусаинаФаизханова. Повесть о жизни и деятельности. С. 58.
[iii] Записка на имя ректора Санкт-Петербургского университета от 2 ноября 1866 г., где цит.слова В. В. Вельяминова-Зернова: ХөсәенФәезханов: тарихи-документаль җыентык.Б. 491. На нее ссылается В. В. Григорьев: [Григорьев В. В.]Императорский С.-Петербургский университет в течениепервых пятидесяти лет его существования: ист. записка / сост. по поручениюСовета ун-та орд. проф. покаф. истории Востока В. В. Григорьевым. СПб.: Типогр. В. Безобразова и К°, 1870. С. 402, [примеч.]68, примеч. 402. См. также: [Залеман К. Г.]Фейз-Ханов // Русский биографический словарь / Изд.под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического ОбществаА. А. Половцова. СПб.: Типогр. В. Безобразова и Ко, 1901.Т. 21. Фабер – Цявловский. С. 37; [Веселовский Н. И.] Фейз-Ханов// Энциклопедический словарь [Брокгауза и Ефрона].СПб.: Семеновская Типолитография (И. А. Ефрона), 1902. Т. XXXV (69). Усинскийпограничный округ – Фенол. С. 428.
[iv] Веселовский Н. И. В. В.Вельяминов-Зернов. Некролог // Журнал Министерства народного просвещения. 1904.Ч. CCCLII. Кн. 4. С. 205–206.
[v] См.: Усманов М. А. Заветная мечта ХусаинаФаизханова. Повесть о жизни и деятельности. С. 60–61.
[vi] Веселовский Н. И. В. В.Вельяминов-Зернов. Некролог. С. 209. – В частности, В. В. Бартольд отмечает факт, «который, может быть, заслуживаетинтереса с психологической точки зрения»: «Ученый, заболевшийв результате перенапряжения, позднее восстановил свое здоровье и дажеработоспособность, но до конца своей жизни (1904 г.) сохранялнепреодолимое отвращение к предмету своих прежних исследований» (Бартольд В. В.Состояние и задачи изучения истории Туркестана // Бартольд В. В.Сочинения: в 9 т. М.: Наука, 1977. Т. IX. Работы по историивостоковедения. С. 510, примеч. 3).
[vii] Усманов М. А. Заветная мечта ХусаинаФаизханова. Повесть о жизни и деятельности. С. 67; Мухетдинов Д. В. Хусаин Фаизхан — классиктатарского просвещения, истории и педагогики. С. 71.
[viii] Нерасторжимая связь: письма Хусаина Фаизханова Шихабутдину Марджани. С. 80 (татар. транскр.), 80–81 (рус. перев.),примеч. 7, с. ١٩ (тюрк. текст).
[ix] Григорьев В. В. Волжские булгары // [Григорьев В. В.] Россия и Азия: Сб.исследований и статей по истории, этнографии и географии, написанных в разноевремя В. В. Григорьевым, ориенталистом; [предисл.П. Лерх]. СПб.: Тип. бр.Пантелеевых, 1876. С. 79–106 (впервые опубликовано вжурнале: Библиотека для чтения. 1836. Т. XIX. Отд. III.Ч. 1. No. 11. С. 1–31).См. также соответствующие по тематике и содержанию статьиВ. В. Григорьева в «Энциклопедическом лексиконе» А. Плюшара: [Григорьев В. В.]Билеры // Энциклопедический лексикон. СПб.: [в типогр. А. Плюшара], 1836. Т. 5: Бар– Бин. С. 545; Он же.Булгар // Там же. СПб.: [в типогр. А. Плюшара],1836. Т. 7: Бра – Бял. С. 292–295; Он же. Булгары // Там же. С. 295–310 (раздел «Булгары волжские». С. 295–306).
[x] Березин И. Н. Булгар на Волге // УченыеЗаписки Казанского университета за 1852 г. Кн. III. Казань, 1852.С 74–160.
[xi] Березин И. Н. Булгар на Волге. Казань: Типогр. университета, 1853. 91 с.
[xii] Бартольд В. В. Н. И. Березин как историк // Бартольд В. В.Сочинения. Т. IX. С. 748.
[xiii] Нерасторжимая связь: письма Хусаина Фаизханова Шихабутдину Марджани. С. 124 (татар. транскр.), 125 (рус. перев.), ٤٤(тюрк. текст).
[xiv] Нерасторжимая связь: письма Хусаина Фаизханова Шихабутдину Марджани. С. 130 (татар. транскр.), 134 (рус. перев.), ٤٩(тюрк. текст).
[xv] Там же. С. 131 (татар. транскр.), 134–135 (рус. перев.), ٥٠(тюрк. текст).
[xvi] См.: там же. С. 140 (татар. транскр.), 143 (рус. перев.), ٥٥(тюрк. текст).
[xvii].... См. рус. переводв кн.: Мухетдинов Д. В. Хусаин Фаизхан — классик татарского просвещения, истории ипедагогики. С. 220–222. Ср.: МухетдиновД. В. Предисловие // Нерасторжимая связь: письма Хусаина Фаизханова Шихабутдину Марджани.С. 20–22.
[xviii]... Мухетдинов Д. В.Хусаин Фаизхан —классик татарского просвещения, истории и педагогики. С. 227.
[xix] Рус. перевод см.: Хусаин Фаизханов. Жизнь инаследие: историко-документальный сборник. С. 31; Мухетдинов Д. В.Хусаин Фаизхан —классик татарского просвещения, истории и педагогики. С. 184–186. — Упомянутый труд Х. Фаизханова былнаписан зимой 1862–1863 гг. и, оставшись не изданным, хранилсявпоследствии у Ш. Марджани (Мухетдинов Д. В.Хусаин Фаизхан —классик татарского просвещения, истории и педагогики. С. 143–144).
[xx] Шихаб уд-дин Багаутдинов [Марджани].Очерк истории Болгарского и Казанского царств. С. 41 (рус.перев.), 52 (тюрк. текст).
[xxi] Марджани Ш. Ал-К̣исмал-’аввал мин китāб Мустафāд ал-’ах˘бāр фӣ ах.вāл К̣азāнва Булг̣āр. Б. 78; Он же. Извлечение вестей о состоянии Казани и Булгара (Мустафад ал-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар) / Ш. Марджани. Казань: Иман, 2005. Ч.I. С. 100–101.
[xxii].... Марджани Ш. Ал-К̣исм ал-’аввалмин китāб Мустафāдал-’ах˘бāр фӣ ах.вāл К̣азāнва Булг̣āр. Б. 119–121; Он же. Извлечение вестей о состоянии Казани и Булгара. Ч.I. С. 140.
[xxiii]... Марджани Ш. Ал-К̣исм ал-’аввалмин китāб Мустафāдал-’ах˘бāр фӣ ах.вāл К̣азāнва Булг̣āр. Б. 124; Он же. Извлечение вестей о состоянии Казани и Булгара. Ч.I. С. 145.
[xxiv]... Мухетдинов Д. В. Хусаин Фаизхан — классик татарского просвещения, истории ипедагогики. С. 223–224.
[xxv].... Там же. С. 226.
[xxvi]... Шино [П. И. Пашино]. Встреча с Вамберив Персии: выдержки из дневника // Санкт-Петербургские ведомости. 1864. 9 (21)августа (№ 175). С. 705.
[xxvii].. Рус. переводсм.: Вамбери А. Путешествие по Средней Азии / пер. с нем.З. Д. Голубевой; под ред. В. А. Ромодина; предисл.В. А. Ромодина; коммент.В. А. Ромодина, С. Г. Агаджанова. М.: Вост. лит., 2003.320 с.
[xxviii].. Письмо Х. ФаизхановаШ. Марджани в апреле (?) 1864 г.:Нерасторжимая связь: письма Хусаина Фаизханова Шихабутдину Марджани. С. 140 (татар. транскр.), 143 (рус. перев.),примеч. 20, с. ٥٥ (тюрк. текст).
[xxix]... Там же. С. 140 (татар. транскр.), 143 (рус. перев.),примеч. 20, с. ٥٥ (тюрк. текст). Вцит. издании слово интерпретировано как отглагольноеимя и переведено на русский язык как «смешение».
[xxx].... Будагов Л. З. Сравнительный словарь турецко-татарскихнаречий: со включением употребительнейшихслов арабских и персидских и с переводом на русский язык. СПб.:Тип. Имп. акад. наук, 1869. Т. I.С. 290. — Л. З. Будагов также указалслово булгар как производное от этой основы.
[xxxi]... Письмо Х. Фаизханова Ш. Марджани от 27 декабря 1863 г.: Нерасторжимая связь: письмаХусаина Фаизханова Шихабутдину Марджани.С. 130–132 (татар. транскр.), 134–135 (рус. перев.), ٥٠ (тюрк. текст).Ср.: Фәхретдин Р. С. Болгар вәКазан төрекләре. Б. 246.
[xxxii].. Марджани Ш. Ал-К̣исмал-’аввал мин китāб Мустафāд ал-’ах˘бāр фӣ ах.вāл К̣азāнва Булг̣āр. Б. 11; Он же. Извлечение вестей о состоянии Казани и Булгара.Ч. I. С. 14. Ввиду особенностей исторического развития вокализма общетюркскому bulğa-(с узким огубленным гласным) в татарском языкесоответствует bolğa-(с полушироким огубленнымгласным).
[xxxiii].. Позже В. В. Григорьев, говоря о проделаннойХ. Фаизхановым расшифровке булгарских эпитафий,отмечал ее как «важное открытие»: [Григорьев В. В.]Императорский С.-Петербургский университет в течениепервых пятидесяти лет его существования. С. 416–417.
Дополнительные материалы:
Историческое наследие Фаизханова. Работа Х. Фаизханова по истории Волжской Булгарии
Историческое наследие Фаизханова. Эволюция методов исторического исследования Х. Фаизханова